Демографические процессы, протекавшие в Сибирском казачьем войске во второй половине XIX в., характеризовались значительными изменениями этнического состава казачества. Изначально образовавшееся как конгломерат многих этносов, сибирское казачество до начала XX в. сохраняло этническую пестроту, хотя к этому времени уже выделились основные, наиболее многочисленные, этнические группы, одной из которых была мордва.
Первоначальную основу этой группы составили около 2900 человек обоего пола (1), переселившихся в 1849 и 1851 гг. по указу Николая I в Киргизскую степь для начала колонизации этого края в составе зачисленных в войсковое сословие крестьян. Мордвины-переселенцы были выходцами из поселений Мезелинского, Бугульминского округов Оренбургской губернии и Хвалынского, Новоузенского, Балашевского, Кузнецкого уездов Саратовской губернии (2). Они были расселены в поселениях, вошедших позже в состав 1-го военного отдела войска, составляя подавляющее большинство их населения (ст. Щучинская) или же заметную его часть ст. Нижне-Бурлукская, пос. Аиртавский и др.). Под началом офицеров и инструкторов – «природных» казаков, переселившихся вместе с семьями с Иртышской и Пресногорьковской линий, начался «период учения — обиходу, постройкам, метению улиц и т.п.» (3), период ломки прежнего крестьянского хозяйственного уклада, быта, психологии и проч. Некоторые результаты этнических, хозяйственных, культурных процессов, протекавших в этой группе сибирского казачества во второй половине XIX в. и не завершившихся к 90-м гг., были зафиксированы Г.Е. Катанаевым во время одной из инспекторских поездок по станицам войска в качестве представителя войскового хозяйственного правления.
«По наружному виду — складу лица, цвету кожи, волос и глаз, по росту и до-родству — мордва-казаки, можно сказать, почти ничем в настоящее время не отличаются от большинства великороссов; особого какого-либо типа мордвина не выделяется… В характере также не замечается выдающихся особенностей: сравнительно с хохлами их можно считать подвижнее, восприимчивее и не так упрямыми, хотя упрямство, по-видимому, им более прирождено, чем великороссу…» (4) — отмечал Г.Е. Катанаев.
Он обратил внимание, что казаки-мордвины «носят фамилии по христианским именам своих прадедушек, пришедших из России — Ивановы, Николаевы, Артемьевы и проч. Некоторые в виду чрезвычайной многочисленности членов одной и той же семьи переменили при самом своем поселении свои фамилии -прадедов на другие — по отцам или старшим представителям разделившихся семейств…» (5).
В большинстве своем мордвины исповедали православие, хотя отдельные из них, проживающие в станицах Якши-Янгизставской, Акан-Бурлукской и др., были сторонниками раскола и сектанства. В этой связи интересны заметки Г.Е. Катанаева, свидетельствовавшие о сохранении в 50-х годах XIX в. в среде переселившихся мордвин элементов анимизма: «… памятны многим из пожилых мордвин первые времена их прихода сюда, когда в праздничные дни они выходили для моления на открытые места к большим деревьям, где закалывались куры, убивались бараны и другие животные, а шкуры их развешивались на сучья, служили как бы предметом поклонения и жертвоприношения. Памятно время, когда после похорон все участвовавшие в проводах родственники и знакомые по приходе домой прыгали через огни, угли, костры, разложенные на дворах… Тогда же которая либо из старух, участвовавшая в процессии, на мо¬гиле покойника скребла с медного пятака стружки и приговаривала: «На тебе золота, на тебе серебра, чтоб на том свете ни в чем не нуждался» и проч. Ничего подобного теперь уже давно нет, и возобновление всего этого возбудило бы общий смех и даже глумление» (6).

Зачисленные в казаки мордвины оказались весьма восприимчивыми к новым условиям ведения хозяйства. Недавние крестьяне быстро переняли местные специфические особенности обработки земли, связанные с многоземельем и климатическими условиями, начали выращивать новые культуры. К 80-90-м годам XIX в. для распашки целинных земель они стали использовать тяжелые малороссийские плуги и волов в качестве более выносливого рабочего скота, перенимая это у украинцев. Все это, как и занятия местными промыслами, меновой торговлей с кочевым населением, дало повод Г. Е. Катанаеву отметить следующее: «Настойчивость в труде замечательная. Хозяйственная и торговая изворотливость не уступает вообще великороссу и во всяком случае превосходит как хохлацкую, так и, особенно, староказачью. Мордвин, как говорят; — «на дыре дыру вертит». Он и на пашне, он и в лавке, он и на ярмарке.., он и в извозе на быках и лошадях, он и на железнодорожных работах на 300-400 верст.., он и сапожник, он и портной, и дроворуб и т. д. Честность в обязанностях, верность данному слову, отсутствие обмана в житейских делах, особенно в отношение, мордвина к мордвину же,… не подлежит сомнению» (7).
К концу XIX в. в среде казаков-мордвин сохранялось двуязычие, однако этноязыковые ассимиляционные процессы неизбежно приводили к вытеснению родного языка русским. В поселках, где мордва составляла лишь часть населения, по наблюдениям Г.Е. Катанаева, уже к 90-м гг. они «… никогда не говорят по-мордовски даже между собою.., и все-таки сердце радуется, как хоть на время услышат родную речь» (. Усиление влияния русского языка проявлялось и в своеобразном центре этой этнической группы — Щучинском станичном поселении: «… Почти все щученские мордвины благодаря тому, что поселились все совокупно большим поселением почти без всякой примеси других народностей… язык свой не забыли; мало того: почти все без исключения семьи первоначально начинали учить ребят говорить и думать по-мордовски; затем, когда ребята … подрастают, они мало-помалу начинали изучать русский язык; в некоторых семьях изучение русского языка идет параллельно мордовскому; окончательное усвоение русского языка до исчезновения всякого акцента в выговоре происходит в школе и на службе в полку… Даже те из мордвин, которые непременно думают про себя на родном языке, говорят между собой чаще всего на русском языке или мешают тот и другой, с одинаковою почти чистотою в выговоре… Большинство женщин, особенно молодых, также говорят больше по-русски…» (9).
С усилением торгово-хозяйственных контактов с казахами среди мордвин, как и вообще среди сибирских казаков, широко распространилось знание казахского языка: «… большая часть мордвин говорит по-киргизски… Произношение киргизских слов требует, конечно, многого, чтобы его можно было назвать совершенным; тем не менее, объясняются на этом языке довольно бойко… Сравнивать их в этом со старыми природными казаками нельзя: одни артисты, а другие-исполнители поневоле. Необходимость знания киргизского языка признается всеми мордвинами» (10).
К 90-м гг. XIX в. одежда и «домоустройство» в большей степени выражали стремление недавних переселенцев подчеркнуть свою сословную общность с казаками, нежели этнические особенности. «Идеал, к которому мордва вообще, и в частности, стремится в ношении одежды… это быть как можно больше похожими на русского и русского притом казака или мещанина, вообще горожанина, а не мужика…
Как мужчины, так и женщины совершенно оставили свою прежнюю не только национальную, но и русско-мужицкую одежду, заменив ее местною городско-казачьею. Мужчины по костюму совершенно казаки: многие подчеркивают свое казачество постоянным ношением… фуражки и бешмета. Самотканная рубашка и порты тоже почти совершенно вывелись из употребления. Некоторые носят пиджаки и частью сюртуки; любимый цвет как и у казаков темно-коричневый; материя так называемая «киргизская». Сапоги высокие с запущенными за них шароварами. Хождение по улице в одной рубахе, хотя бы и цветной, и в под¬штанниках строго осуждается и считается крайне неприличным, это «мужичество»…
Женщины, как старые, так и молодые… носят костюм русский-городской. Верхом порядочности считается ношение платьев городского фасона не особо ярких цветов, хотя яркие цвета… очень нравятся и не модницам… На голове особым образом надвязанные платка, косынки и наколки, на ногах ботинки.
Дома с каждым годом увеличиваются в размерах… Вначале (в 1849 -1851 гг. — С.А.) строились в 1-2 и несколько по принуждению в 3 (комнаты — С.А.). Жили… вместе с телятами и курами; мебели кроме некрашенных столов и скамеек не было; теперь, можно сказать, в каждом доме есть стулья, диванчики, голландские печи независимо от русских, половики, самовары, чайная посуда. Са¬мовары, как и у всех сибиряков, сильно привились и к мордве» (11).
Ассимиляционные процессы, протекавшие в Сибирском казачьем войске, выражались не только в явлениях, отмеченных Г.Е. Катаваевым, но и в усиливавшейся тенденции к сокращению доли мордвин в составе войскового сословия. Абсолютное увеличение численности этой этнической группы казачества происходило лишь за счет естественного прироста, в то время как численность русских, украинцев возрастала также за счет механического прироста — перечисления в войско казаков и крестьян из других районов России (12) .
| 1894 г. | 1897 г. | 1902 г. | 1908 г. | 1913 г. | |
| численность войскового сословия обоего пола | 112336 | 118209 | 130459 | 149368 | 167985 |
| численность мордвин войскового сословия | 6705 | 6348 | 7371 | 8087 | 8197 |
| % мордвин в составе войскового сословия | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,41 | 4,89 |
В целом, увеличивавшаяся языковая, культурная, психологическая однородность сибирского казачества была одной из характерных черт процессов, протекавших в войске во второй половине XIX — начале XX вв.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Подсчитано нами по: ГАОО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 536, 591.
2. См.: ГАОО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 536, 591.
3. ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 417. Л. 37.
4. Там же, Л. 41-41 об.
5. Там же, Л. 37-37 об.
6. Там же, Л. 42об.- 43.
7. Там же, Л. 41об.- 42.
8. Там же, Л. 68.
9. Там же, Л.37об. — 38об.
10. Там же, Л 38об.
11. Там же, Л. 39об. — 41.
12. Подсчитано по: Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1894 г., ч.2. – Омск, 1894 г.; … за 1897 г.; …за 1902 г.; … за 1908 г.; … за 1913 г.
Андреев С. М. Мордва в этническом составе сибирского казачества (по материалам Г. Е. Катанаева 1890-1891 гг.) // Архивный вестник. Ежегодник архивного управления администрации Омской области. – Омск: [б. и.], 1994. – № 5. – С. 26-29.
источник: http://forum.vgd.ru/352/16675/all.htm
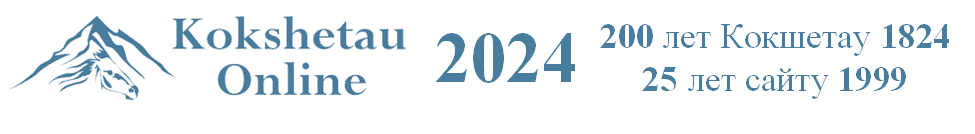



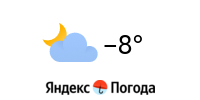

 Канал @EmelyanovEG photo в Telegram
Канал @EmelyanovEG photo в Telegram