Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения
потомок киргизских ханов и в то же время офицер российской армии
Чокан Чингисович Валиханов.
Н.И. Веселовский (1848 – 1918).
Тайна авторства статьи «Письмо из Омска. 10-го Марта 1857 г.» (гипотеза).
Окунувшись в творческое наследие Чокана Валиханова, в некоторых сборниках я нашел информацию, что первая публикация его работы состоялась в газете «Русский инвалид» (военная газета с 1813 года, доход от реализации которой предназначался в пользу инвалидов Отечественной войны 1812 года, солдатских вдов и сирот; официальная газета Военного министерства Российской империи, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1862-1917 гг. — АИЩ) в № 195 в 1857 году.
Например, в академическом сборнике «Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2 — Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 307.» сказано, что «Эта работа впервые была опубликована в газете «Русский инвалид» (1857, № 195) и, вероятно, является одной из ранних статей Ч.Ч. Валиханова, написанной в конце 1856 г. (хотя в газете она датирована мартом 1857 г.). Имеет примечание К.К. Гутковского, в котором впервые даны сведения о Чокане как авторе этой заметки. Стиль ее несколько отличается от манеры изложения Ч. Валиханова, что, по-видимому, объясняется вмешательством в текст редактора газеты. Заголовка у статьи не было изначально. Она вышла под рубрикой «Военный листок» и была озаглавлена просто «Письмо из Омска». А условное название «О Баян-Аульском округе», которое известно в настоящее время всем, кто интересуется творчеством Чокана Валиханова, было дано издателями «Собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова» в пяти томах 1961-72 гг.».
Ирина Ивановна Стрелкова в своей работе «Валиханов» серии «Жизнь замечательных людей» (Москва. Изд. «Молодая гвардия». 1983) пишет, что «Он (Валиханов – АИЩ.) делился своими планами с Гутковским. Карл Казимирович нашел их достойными общественного внимания. В газете «Русский инвалид» за 1857 год появилось первое выступление Чокана Валиханова в русской печати — письмо из Омска, датированное 10 марта 1857 года. Письмо начинается с описания Баян-Аульского округа, упоминается старший султан войсковой старшина Муса Чорманов (можно себе представить, как были довольны отец и дядя Муса), затем следует экскурс в историю Средней орды. Заканчивается письмо ярким описанием богатств вновь учрежденного Алатавского округа. Автор явно хочет привлечь внимание общественности, предпринимателей к Семиречью, находящемуся на одной широте с Пизой и Флоренцией, к благодатной природе, к судоходной реке Или. «Ясно, что Алатавскому округу предстоит завидный жребий в торговом отношении России, а Укреплению Верному предназначено быть ключом нашей торговли с Центральною Азиею».
Обратившись к первоисточнику – статье в рубрике «Военный листок» газеты «Русский инвалид» от 12 сентября 1857 года, № 195, я обнаружил, что отсутствует авторство данной статьи в газете, и что, вышеуказанные авторы сборников публикуют часть статьи из газеты — среднюю часть. Предлагаю для чтения статью «Письмо из Омска» со всеми авторскими примечаниями, редакционными сносками, опубликованную в газете «Русский инвалид» в 1857 году, для наглядности отрывок, авторство которого приписывается Чокану Валиханову, выделил курсивом.
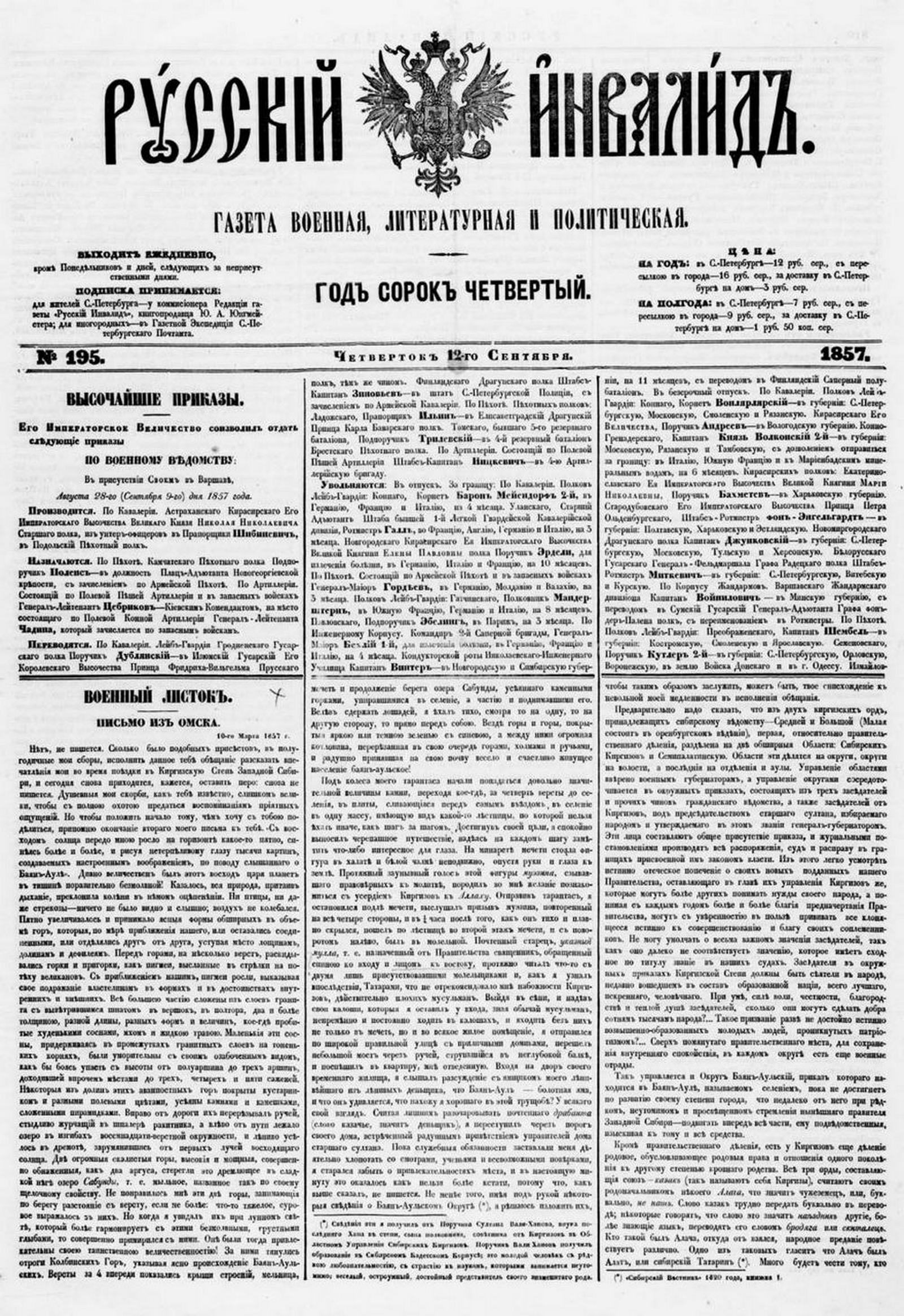
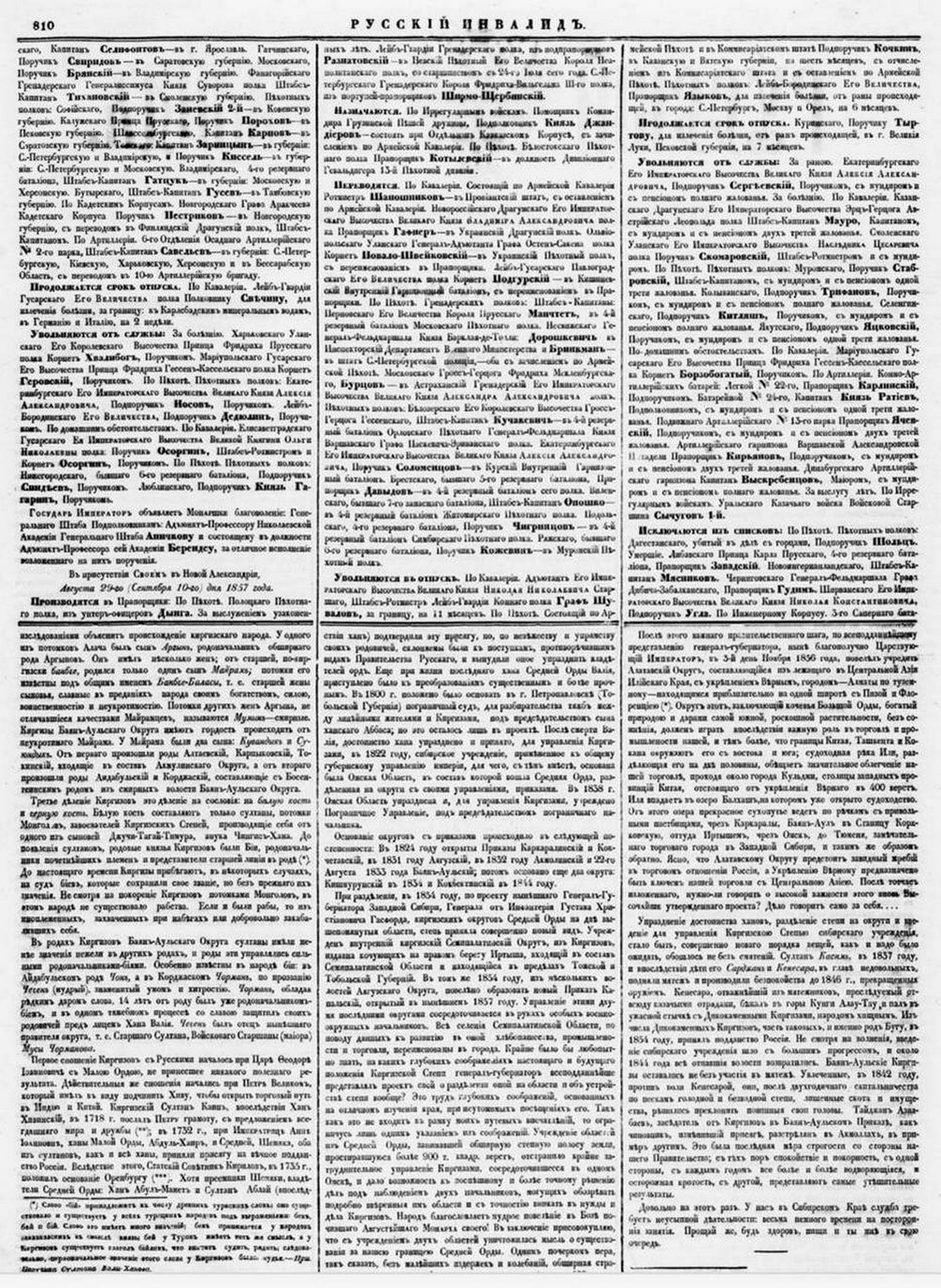
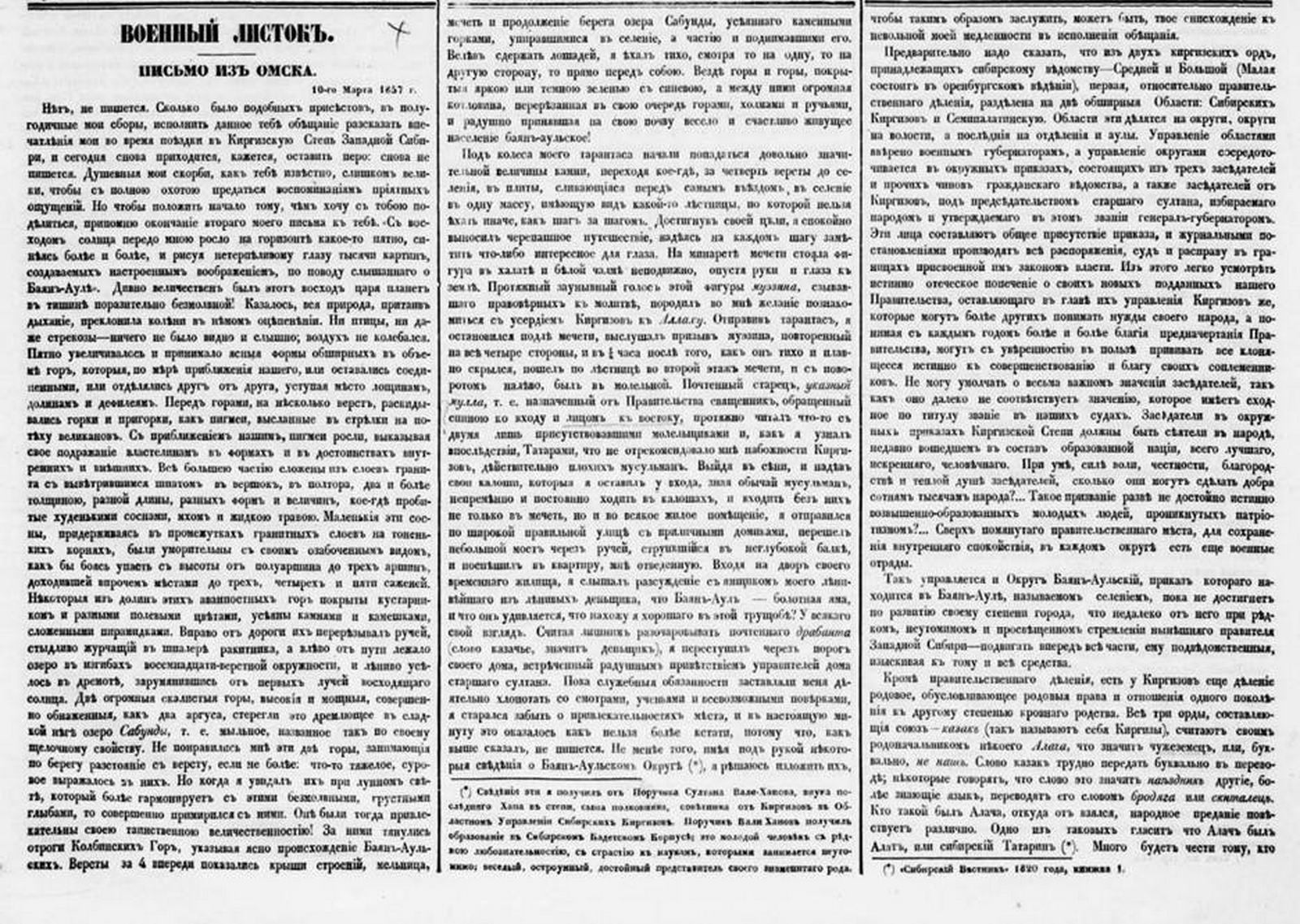
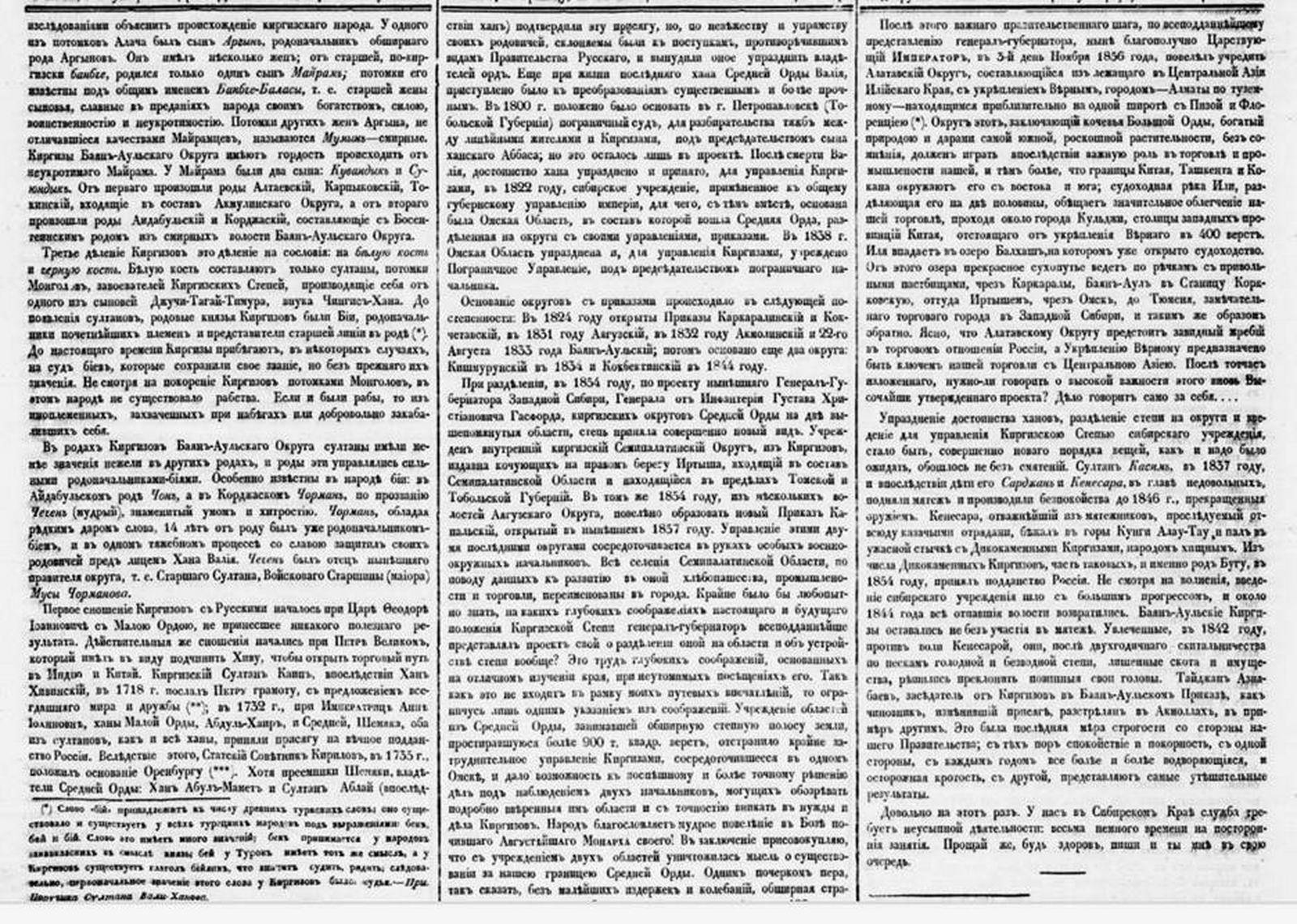
«ВОЕННЫЙ ЛИСТОК.
Письмо из Омска.
10-го Марта 1857 г.
Нет, не пишется. Сколько было подобных присестов в полугодичные мои сборы исполнить данное тебе обещание рассказать впечатления мои во время поездки мои в Киргизскую Степь Западной Сибири, и сегодня снова приходится, кажется, оставить перо: снова не пишется. Душевные мои скорби, как тебе известно, слишком велики, чтобы с полною охотою предаться воспоминаниям приятных ощущений. Но чтобы положить начало тому, чем хочу с тобою поделиться, припомню окончание второго моего письма к тебе. «С восходом солнца передо мною росло на горизонте какое-то пятно, синеясь более и более, и рисуя нетерпеливому глазу тысячи картин, создаваемых настроенным воображением по поводу слышанного о Баян-Ауле». Дивно величествен был этот восход царя планет в тишине поразительно безмолвной! Казалось, вся природа, притаив дыхание, преклонила колени в немом оцепенении. Ни птицы, ни даже стрекозы — ничего не было видно и слышно; воздух не колебался. Пятно увеличивалось и принимало ясные формы обширных в объеме гор, которые, по мере приближения нашего, или оставались соединенными, или отделялись друг от друга, уступая место лощинам, долинам и дефилеям. Перед горами на несколько верст раскидывались горки и пригорки как пигмеи, высланные в стрелки на потеху великанов. С приближением нашим пигмеи росли, выказывая свое подражание властелинам в формах и в достоинствах внутренних и внешних. Все большею частию сложены из слоев гранита с выветрившимся шпатом в вершок в полтора, два и более толщиною, разной длины, разных форм и величин, кое-где пробитые худенькими соснами, мхом и жидкою травой. Маленькие эти сосны, придерживаясь в промежутках гранитных слоев на тоненьких корнях, были уморительны со своим озабоченным видом, как бы боясь упасть с высоты от полуаршина до трех аршин, доходившей, впрочем, местами до трех, четырех и пяти саженей. Некоторые из долин этих аванпостных гор покрыты кустарником и разными полевыми цветами, усеяны камнями и камешками, сложенными пирамидками. Вправо от дороги их перерезывал ручей, стыдливо журчащий в шпалере ракитника, а влево от пути лежало озеро в изгибах восемнадцати-верстной окружности, и лениво уселось в дремоте, зарумянившись от первых лучей восходящего солнца. Две огромные скалистые горы, высокие и мощные, совершенно обнаженные, как два аргуса, стерегли это дремлющее в сладкой неге озеро Сабунды, т.е. мыльное, названное так по своему щелочному свойству. Не понравились мне эти две горы, занимающие по берегу расстояние с версту, если не более: что-то тяжелое, суровое выражалось в них. Но когда я увидал их при лунном свете, который более гармонирует с этими безмолвными, грустными глыбами, то совершенно примирился с ними. Они были тогда привлекательны своею таинственною величественностью! За ними тянулись отроги Колбинских Гор, указывая ясно происхождение Баян-Аульских. Версты за 4 впереди показались крыши строений, мельница, мечеть и продолжение берега озера Сабунды, усеянного каменными горками, упиравшимися в селение, а частию и поднимавшими его. Велев сдержать лошадей, я ехал тихо, смотря то на одну, то на другую, то прямо перед собою. Везде горы и горы, покрытые яркою или темною зеленью с синевою, а между ними огромная котловина, перерезанная в свою очередь горами, холмами и ручьями, и радушно принявшая на свою почву весело и счастливо живущее население баян-аульское!
Под колеса моего тарантаса начали попадаться довольно значительной величины камни, переходя кое-где, за четверть версты до селения, в плиты, сливающиеся перед самым въездом в селение в одну массу, имеющую вид какой-то лестницы, по которой нельзя ехать иначе, как шаг за шагом. Достигнув своей цели, я спокойно выносил черепашное путешествие, надеясь на каждом шагу заметить что-либо интересное для глаза. На минарете мечети стояла фигура в халате и белой чалме неподвижно, опустя руки и глаза к земле. Протяжный заунывный голос этой фигуры муэзина, сзывавшего правоверных к молитве, породил во мне желание познакомиться с усердием Киргизов у Аллаху. Отправив тарантас, я остановился подле мечети, выслушав призыв муэзина, повторенный на все четыре стороны, и в ¼ часа после того, как он тихо и плавно скрылся, пошел по лестнице во второй этаж мечети, и с поворотом налево был в молельной. Почтенный старец, указный мулла, т.е. назначенный от Правительства священник, обращенный спиною к выходу и лицом к востоку, протяжно читал что-то с двумя лишь присутствовавшими молельщиками и, как я узнал впоследствии, Татарами, что не отрекомендовало мне набожности Киргизов, действительно плохих мусульман. Выйдя в сени и надев свои калоши, которые я оставил у входа, зная обычай мусульман, непременно и постоянно ходить в калошах, и входить без них не только в мечеть, но и во всякое жилое помещение, я отправился по широкой правильной улице с приличными домиками, перешел небольшой мост через ручей, струившийся в неглубокой балке, и поспешил в квартиру, мне отведенную. Входя на двор своего временного жилища, я слышал рассуждение с ямщиком моего ленивейшего из ленивых денщика, что Баян-Аул – болотная яма, и что он удивляется, что нахожу я хорошего в этой трущобе? У всякого свой взгляд. Считая лишним разочаровывать почтенного драбанта (слово казачье, значит денщик), я переступил через порог своего дома, встреченный радушным приветствием управителей дома старшего султана. Пока служебные обязанности заставили меня деятельно хлопотать со смотрами, ученьями и всевозможными поверками, я старался забыть о привлекательностях места, и в настоящую минуту это оказалось, как нельзя кстати, потому что, как выше сказал, не пишется. Не менее того, имея под рукой некоторые сведения о Баян-Аульском Округе (Сведения эти я получил от Поручика Султана Вали-Ханова, внука последнего Хана в степи, сына полковника, советника от Киргизов в Областном Управлении Сибирских Киргизов. Поручик Вали-Ханов получил образование в Сибирском Кадетском Корпусе; это молодой человек с редкою любознательностью, со страстью к наукам, которыми занимается неутомимо; веселый, остроумный, достойный представитель своего знаменитого рода), я решаюсь изложить их, чтобы таким образом заслужить, может быть, твое снисхождение к невольной моей медлительности в исполнении обещания.
Предварительно надо сказать, что из двух киргизских орд, принадлежащих сибирскому ведомству – Средней и Большой (Малая состоит в оренбургском ведении), первая, относительно правительственного деления, разделена на две обширные Области: Сибирских Киргизов и Семипалатинскую. Области эти делятся на округи, округи на волости, а последние на отделения и аулы. Управление областями вверено военным губернаторам, а управление округами сосредоточивается в окружных приказах, состоящих из трех заседателей и прочих чинов гражданского ведомства, а также заседателей от Киргизов под председательством старшего султана, избираемого народом и утверждаемого в этом звании генерал-губернатором. Эти лица составляют общее присутствие приказа и журнальными постановлениями производят все распоряжения, суд и расправу в границах присвоенной им законом власти. Из этого легко усмотреть истинно отеческое попечение о своих новых подданных нашего Правительства, оставляющего в главе их управления Киргизов же, которые могут более других понимать нужды своего народа, а понимая с каждым годом более и более благие предначертания Правительства, могут с уверенностью в пользе прививать все клонящееся истинно к совершенствованию и благу своих соплеменников. Не могу умолчать о весьма важном значении заседателей, так как оно далеко не соответствует значению, которое имеет сходное по титулу звание в наших судах. Заседатели в окружных приказах Киргизской Степи должны быть сеятелями в народе, недавно вошедшем в состав образованной нации, всего лучшего, искреннего, человечного. При уме, силе воли, честности, благородстве и теплой душе заседателей сколько они могут сделать добра сотням тысячам народа?.. Такое призвание разве не достойно истинно возвышенно-образованных молодых людей, проникнутых патриотизмом?.. Сверх помянутого правительственного места, для сохранения внутреннего спокойствия в каждом округе есть еще военные отряды.
Так управляется и округ Баян-Аульский, приказ которого находится в Баян-Ауле, называемом селением, пока не достигнет по развитию своему степени города, что недалеко при редком, неутомимом и просвещенном стремлении нынешнего правителя Западной Сибири — подвигать вперед все части, ему подведомственные, изыскивая к тому и все средства.
Кроме правительственного деления, есть у Киргизов еще деление родовое, обусловливающее родовые права и отношения одного поколения к другому степенью кровного родства. Все три орды, составляющие союз — казах (так называют себя Киргизы), считают своим родоначальником некоего Алача, что значит чужеземец, или, буквально, «не наш». Слово казак трудно передать буквально в переводе; некоторые говорят, что слово это значит наездник, другие, более знающие язык, переводят его словом бродяга или скиталец. Кто такой был Алача, откуда он взялся, народное предание повествует различно. Одно из таковых гласит, что Алач был Алат, или сибирский Татарин («Сибирский Вестник», 1820 года, книжка 1). Много будет чести тому, кто исследованиями объяснит происхождение киргизского народа. У одного из потомков Алача был сын Аргын, родоначальник обширного рода Аргынов. Он имел несколько жен, от старшей, по-киргизски байбче, родился только один сын Мейрам; потомки его известны под общим именем Байбче-Баласы, т. е. старшей жены сыновья, славные в преданиях народа своим богатством, силою, воинственностью и неукротимостью. Потомки других жен Аргына, не отличившиеся качествами Мейрамцев, называются Мумын – смирные. Киргизы Баян-Аульского Округа имеют гордость происходить от неукротимого Мейрама. У Мейрама были два сына: Кувандык и Суюндык. От первого произошли роды Алтаевский, Карпыковский, Токинский, входящие в состав Акмолинского Округа, а от второго произошли роды Айдабульский и Корджаский, составляющие с Босентеинским родом из смирных волостей Баян-Аульского Округа.
Третье деление Киргизов – это деление на сословия: на белую кость и черную кость. Белую кость составляют только султаны, потомки Монголов, завоевателей Киргизских Степей, производящие себя от одного из сыновей Джучи-Тагай-Тимура, внука Чингис-Хана. До появления султанов родовые князья Киргизов были Бии, родоначальники почетнейших племен и представители старшей линии в роде (Слово «бий» принадлежит к числу древних тюркских слов; оно существовало и существует у всех тюркских народов под выражениями: бек, бей и бий. Слово это имеет много значений, бек понимается у народов закавказских в смысле князь; бей у Турок имеет тот же смысл, а у Киргизов существует глагол бийлик, что значит судить, рядить; следовательно, первоначальное значение этого слова у Киргизов было судья. – При. Поручика Султана Вали-Ханова). До настоящего времени Киргизы прибегают, в некоторых случаях, на суд биев, которые сохранили свое звание, но без прежнего их значения. Несмотря на покорение Киргизов потомками Монголов, в этом народе не существовало рабов. Если и были рабы, то из иноплеменных, захваченных при набегах или добровольно закабаливших себя.
В родах Киргизов Баян-Аульского Округа султаны имели менее значения, нежели в других родах, а роды эти управлялись сильными родоначальниками – биями. Особенно известны в народе бии: в Айдабульском роде – Чон, а в Корджаском – Чорман, по прозванию Чечен (мудрый), знаменитый умом и хитростью. Чорман, обладая редким даром слова, 14 лет от роду был уже родоначальником – бием, и в одном тяжебном процессе славно защитил своих родовичей перед лицом Хана Валия. Чечен был отец нынешнего правителя округа, т. е. Старшего Султана, Войскового Старшины (майора) Мусы Чорманова.
Первое сношение киргизов с русскими началось при царе Федоре Ивановиче с Малою ордою не принесшее никакого полезного результата. Действительные же сношения начались при Петре Великом, который имел в виду подчинить Хиву, чтобы открыть торговый путь в Индию и Китай. Киргизский султан Каип, впоследствии Хан Хивинский, в 1718 году послал Петру грамоту с предложением всегдашнего мира и дружбы («Описание киргиз-кайсацких орд и степей» Левшина, т. 2, стр. 134) , в 1732 году, при императрице Анне Иоанновне, Ханы Малой Орды – Абул-Хаир и Средней – Шемяке, оба из султанов, как и все ханы, приняли присягу на вечное подданство России. Вследствие этого Статский Советник Кириллов в 1735 году положил основание Оренбургу («Описание киргиз-кайсацких орд и степей» Левшина, т. 2, стр. 68). Хотя преемники Шемяке – владетели Средней Орды: Хан Абул-Мамет и Султан Аблай (впоследствии хан) подтвердили эту присягу, но по невежеству и упрямству своих родовичей склоняемы были к поступкам, противоречившим видам Правительства Русского, и вынудили оное упразднить владетелей орды. Еще при жизни последнего Хана Средней орды Валия приступлено было к преобразованиям существенным и более прочным. В 1800 году положено было основать в городе Петропавловске (Тобольской Губернии) пограничный суд для разбирательства тяжб между линейными жителями и Киргизами под председательством сына ханского Аббаса, но это осталось лишь в проекте. После смерти Валия достоинство хана упразднено и принято для управления Киргизами в 1822 г. сибирское учреждение, примененное к общему губернскому управлению империей, для чего вместе с тем основана была Омская Область, в состав которой вошла Средняя Орда, разделенная на округ со своими управлениями, приказами. В 1838 г. Омская Область упразднена, и для управления Киргизами учреждено Пограничное Управление под председательством пограничного начальника.
Основание округов с приказами происходило в следующей постепенности: в 1824 году открыты Приказы Каркаралинский и Кокчетавский, в 1831 году – Аягузский, в 1832 году – Акмолинский и 22 августа 1833 года – Баян-Аульский; потом основаны еще два округа: Кушмурунский в 1834 году и Кокбектинский в 1844 году.
При разделении в 1854 году, по проекту нынешнего Генерал-Губернатора Западной Сибири, Генерала от Инфантерии Густава Xристиановича Гасфорта, киргизских округов Средней Орды на две вышеупомянутые области степь приняла совершенно новый вид. Учрежден внутренний киргизский Семипалатинский Округ из Киргизов, издавна кочующих на правом берегу Иртыша, входящий в состав Семипалатинской Области и находящийся в пределах Томской и Тобольской Губерний. В том же 1854 году из нескольких волостей Аягузского Округа повелено образовать новый Приказ Копальский, открытый в нынешнем 1857 году. Управление этими двумя последними округами сосредоточивается в руках особых военно-окружных начальников. Все селения Семипалатинской области, по поводу данных к развитию в оной хлебопашества, промышленности и торговли, переименованы в города. Крайне было бы любопытно знать, из каких глубоких соображений настоящего и будущего положения Киргизской Степи генерал-губернатор, всеподданнейше представляя проект свой о разделении оной на области и устройстве степи вообще? Этот труд глубоких соображений, основанных на отличном изучении края, при неутомимых посещениях его. Так как это не входит в рамки моих путевых впечатлений, то ограничусь лишь одним указанием из соображений. Учреждение областей из Средней Орды, занимавшей обширную степную полосу земли, простиравшуюся более 900 т. квадр. верст, отстранило крайне затруднительное управление Киргизами, сосредоточившееся в одном Омске, и дало возможность к поспешному и более точному решению дел под наблюдением двух начальников, могущих обозревать подробно вверенные им области и с точностью вникать в нужды, в дела Киргизов. Народ благословляет мудрое повеление в Бозе почившего Августейшего Монарха Своего. В заключение присовокупляю, что с учреждением двух областей уничтожилась мысль о существовании за нашей границей Средней Орды. Одним почерком пера, так сказать, без малейших издержек и колебаний, обширная страна, поделенная на две Области, со своим населением до 400 000 жителей, с будущими надеждами вошла окончательно в пределы Империи на прочное с нею слияние!
После этого важного правительственного шага по всеподданнейшему представлению генерал-губернатора, ныне благополучно Царствующий Император, в третий день Ноября 1856 года повелел учредить Алатавский Округ, составляющийся из лежащего в Центральной Азии Илийского Края с укреплением Верным, городом Алма-Аты по туземному, находящимся приблизительно на одной широте с Пизой и Флоренцией (По определению действительного члена Императорского Русского географического общества П.П. Семенова. Из чрезвычайно интересных писем его, напечатанных в «Вестнике» помянутого общества за 1856 год (примечание редакции «Русского инвалида»). Округ этот, заключающий кочевья Большой Орды, богатый природою и дарами самой южной, роскошной растительности, без сомнения, должен играть впоследствии важную роль в торговле и промышленности нашей, тем более что границы Китая, Ташкента и Кокана окружают его с востока и юга; судоходная река Или, разделяющая его на две половины, обещает значительное облегчение нашей торговле, проходя около города Кульджи, столицы западных провинций Китая, отстоящего от укрепления Верного на 400 верст. Или впадает в озеро Балхаш, на котором уже открыто судоходство. От этого озера прекрасное сухопутье ведет по речкам с привольными пастбищами через Каркаралы и Баян-Аул в Станицу Коряковскую, оттуда Иртышом через Омск до Тюмени, замечательного торгового города в Западной Сибири, и таким же образом обратно. Ясно, что Алатавскому Округу предстоит завидный жребий в торговом России, а Укреплению Верному предназначено быть ключом нашей торговли с Центральной Азией. После тотчас изложенного, нужно ли говорить о высокой важности этого, вновь Высочайше утвержденного, проекта? Дело говорит само за себя…
Упразднение достоинства ханов, разделение степи на округи и введение для управления Киргизскою Степью Сибирского Учреждения, стало быть, совершенно нового порядка вещей, как и надо было ожидать, обошлось не без смятений. Султан Касим в 1837 году и впоследствии дети его Сарджан и Кенесара, во главе недовольных подняли мятеж и производили беспокойства до 1846 г., прекращенные оружием. Кенесара, отважнейший из мятежников, преследуемый отовсюду казачьими отрядами, бежал в горы Кунги Алау-Тау и пал в ужасной стычке с Дикокаменными Киргизами, народом хищным. Из числа Дикокаменных Киргизов часть таковых, а именно род Бугу в 1854 году принял подданство России. Несмотря на волнения, введение сибирского учреждения шло с большим прогрессом, и около 1844 года все отпавшие волости возвратились. Баян-Аульские Киргизы оставались не без участия в мятеже. Увлеченные в 1842 году, против воли Кенесарой они после двухгодичного скитальничества по пескам голодной и безводной степи, лишенные скота и имущества, решили преклонить повинные свои головы. Тайжан Азнабаев, заседатель от Киргизов в Баян-Аульском Приказе, как чиновник, изменивший присяге, расстрелян в Акмоллах в пример другим. Это была последняя мера строгости со стороны нашего Правительства; с тех пор спокойствие и покорность, с одной стороны, с каждым годом все более и более водворяющиеся, и осторожная кротость, с другой, представляют самые утешительные результаты.
Довольно на этот раз. У нас в Сибирском Крае служба требует неусыпной деятельности: весьма немного времени на посторонние занятия. Прощай же, будь здоров, пиши и ты мне в свою очередь».
Мне не известны источники, на основе которых редакционный совет под руководством академика Алькея Хакановича Маргулана (1904 – 1985) при издании «Ч.Ч. Валиханов. Собрание сочинений в пяти томах. (Том IV, стр. 23. Академия наук Казахской ССР. Институт истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. Издательство «Наука» Казахской ССР. Алма-Ата – 1968)» примечанию, в котором впервые даны сведения о Чокане Валиханове, приписал авторство К.К. Гутковскому (чего нет в газете «Русский инвалид».- АИЩ.): «Сведения эти получены от поручика султана Валиханова, внука последнего хана в степи, сына полковника, советника от киргизов в Областном управлении сибирских киргизов. Поручик Валиханов получил образование в Сибирском кадетском корпусе; это молодой человек с редкой любознательностью, со страстью к наукам, которыми занимается неутомимо; веселый, остроумный, достойный представитель своего знаменитого рода (Примечание К.К. Гутковского)». В газете 1857 года примечание опубликовано в таком виде: «Сведения эти я получил от Поручика Султана Вали-Ханова, внука последнего Хана в степи, сына полковника, советника от Киргизов в Областном Управлении Сибирских Киргизов. Поручик Вали-Ханов получил образование в Сибирском Кадетском Корпусе; это молодой человек с редкою любознательностью, со страстью к наукам, которыми занимается неутомимо; веселый, остроумный, достойный представитель своего знаменитого рода».
Во 2-ом издании «Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. (Том 2 – Алма-Ата. Главная редакция Казахской советской энциклопедии. 1985. 2-е изд. доп. и переработанное. Стр. 307)» уже указано, что статья «О Баян-Аульском округе (Письмо из Омска. 10 марта 1857 г.)» была «… впервые опубликована в газете «Русский инвалид» (1857, № 195) и, вероятно, является одной из ранних статей Ч.Ч. Валиханова, написанной в конце 1856 г. (хотя в газете она датирована мартом 1857 г.). Имеет примечание К.К. Гутковского, в котором впервые даны сведения о Чокане как авторе этой заметки (Но в примечании нет сведений о Чокане Валиханове, что он автор заметки.-АИЩ.). Стиль ее несколько отличается от манеры изложения Ч. Валиханова, что, по-видимому, объясняется вмешательством в текст редактора газеты. Заголовка у статьи не было изначально. Она вышла под рубрикой «Военный листок» и была озаглавлена просто «Письмо из Омска». Условное название «О Баян-Аульском округе» было дано издателями «Собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова» в пяти томах 1961-72 гг.».
Предполагаю, что у редакционного совета под управлением академика А.Х. Маргулана были весомые исторические основания для утверждения в томе IV (1968) пятитомника «Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений…», что автором примечания о Чокане Валиханове является К.К. Гутковский, тогда явно выходит, что стилистически автором всей статьи также является Карл Казимирович Гутковский (1815 – 1867).
Кто такой К.К. Гутковский, кем он был для Чокана Валиханова? Карл Казимирович Гутковский родился в польской семье в 1815 году. В 1833 году он окончил 2-й кадетский корпус, проходил службу в 10-й артиллерийской бригаде; в 1835 — 1837 гг. обучался в Императорской военной академии. На 1837 год имел чин прапорщика, с 1850 — подполковник, с 1854 — полковник, с 1866 года — генерал-майор. В 1838 — 1854 гг. служил при Генеральном штабе в Омске в качестве старшего адъютанта Западно-Сибирского генерал-губернатора, князя Г.Г. Горчакова; был помощником губернатора (1847); управляющим киргизами Старшего жуза (1850), затем — председателем Областного правления области Сибирских киргизов, помощником военного губернатора Семипалатинской области (1851-1863), генералом для поручений в Оренбурге (до апреля 1867). Наряду с административной деятельностью, Карл Казимирович занимался изучением южносибирской и киргизской степи. Преподавал географию и геологию в Сибирском кадетском корпусе города Омска. Являясь учителем Чокана, он вместе с другими преподавателями проявлял особую заботу о развитии юного Чокана, ввёл его в свою семью, оказывал ему доброе расположение и отцовскую заботу. Позднее, когда Ч. Валиханов начал служить, К.К. Гутковский был его верным защитником и много помогал ему в научном и служебном продвижении. Он участвовал в подготовке к печати трудов Ч.Ч. Валиханова, содействовав полному изданию его сочинений Императорским Русским географическим обществом. В 1865 году К.К. Гутковский был выбран председателем комиссии по изданию трудов Чокана Валиханова. Однако, первое издание трудов Чокана Валиханова было издано только в 1904 году под редакцией Н.И. Веселовского.
Итак, если автором примечания о Чокане Валиханове является Карл Казимирович Гутковский, то он является автором и всей статьи «Письмо из Омска. 10-го Марта 1857 г.», тогда как Чокан Валиханов мог быть источником сведений о Баян-Аульском округе, которые переработал автор статьи, или соавтором, украсившим статью любопытной и познавательной исторической информацией о своем народе.
Продолжение следует.
Член Русского географического и Военно-исторического обществ, историк Щербинин Александр Иванович. г. Москва, 2025 г.
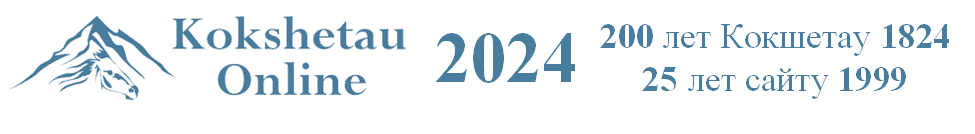

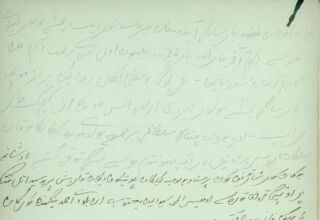
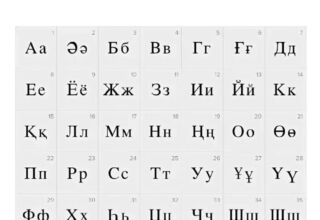
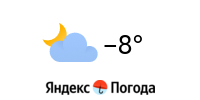

 Канал @EmelyanovEG photo в Telegram
Канал @EmelyanovEG photo в Telegram